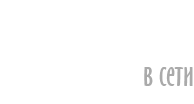К написанию этого эссе меня сподвигло, во-первых, некоторое недоумение, оставшееся после просмотра нашумевшей киноповести о настоящем сверхчеловеке от А. Иньярриту; недоумение, которое росло и крепло по мере прочтения изрядного количества хвалебных рецензий, не говоря уже об итоговом триумфе фильма на церемонии Оскар-2016. А во-вторых, желание рассмотреть несколько под другим углом зрения некоторые идеи поста Елены Иваненко и Александра Шайкина «Выживший: знаки страданий как страх не заметить жертву». Основные тезисы этого поста я полностью поддерживаю, и в продолжение темы делюсь также своими соображениями.
Как представляется, «The Revenant» Иньярриту, что бы там ни говорили в ажиотаже оскаровкой горячки, едва ли относится к шедеврам кинематографии, хоть, впрочем, представляет собой довольно любопытный кинематографический эксперимент. И что еще более важно, он определенно представляет собой фильм-симптом (в чем я опять-таки соглашусь с Еленой Иваненко и Александром Шайкиным), позволяющий нечто понять об актуальной конфигурации, выражаясь на психоаналитическом жаргоне, социального бессознательного.
Начнем с того, что в интервью по поводу участия в этом проекте Леонардо Ди Каприо весьма точно характеризует этот фильм как одновременно гиперреалистичный и создающий «виртуальный мир»[1]. Собственно, упоминание о нарочитом реализме, даже натурализме съемок в откликах на «Выжившего» стало общим местом, давая повод чаще к похвале точности реконструкции исторически конкретного образа жизни и глубине погружения в него, реже к упрекам в разного рода визуальных излишествах. Но вообще говоря, именно гиперреалистический эффект неизменно вынуждает зрителей ломать копья в жарких словесных баталиях на тему того, могло ли вообще нечто подобное приключиться с человеческим организмом. Никому не приходит в голову обсуждать такие вещи в отношении марвелловской продукции, например, а здесь этот вопрос возникает со всей навязчивостью, соответственно, не плохо бы разобраться, что это само по себе значит. По моему глубокому убеждению, даже классический реализм как художественный метод не столько был озабочен миметически точным отображением «правды жизни» как она есть, сколько предъявлял миру идеи так, как если бы они были вещами и обладали всей плотностью, сопротивляемостью и эстетической емкостью вещей[2]. Гиперреализм же, вспомним Ж. Бодрийяра, и вовсе представляет собой надежный способ сделать симулякры более осязаемыми, чем могут быть осязаемы вещи в нашей повседневности[3]. В частности, гиперреализм создает ткань рекламного образа, охотящегося на смутные желания среднестатистического жителя мегаполисных джунглей. Посему представляется, что когда творческий тандем Иньярриту и Любецки живописует нам до дурноты красочно претерпевающее тело Хью Гласса, нам, по сути, предъявляют фантазм как «саму вещь». Российский кинокритик Станислав Зельвенский весьма точно и остроумно окрестил жанр «Выжившего» как survival porn, поскольку главный художественный прием связан со «смакованием страданий, через которые теоретически может пройти человек»[4]. И дело не только в том, что разглядывать в упор чью-то агонию – занятие вполне себе непристойное, но и в сходстве самого принципа организации зрелища и захвата внимания: так же, как и в порнографии, сугубый натурализм служит средством предъявления вовсе не реалий человеческой природы, а ролевой фантазматической сцены, предназначенной к прямому потреблению. Собственно, весь вопрос в том, что делает сцену порнографически показанного выживания длиной в два с половиной часа экранного времени предположительно желанной для массовой аудитории.
Популярность жанра «survival horror» или «survival thriller» сама по себе представляет явление знаковое, и рискнем предположить, что Иньярриту, работая в тренде, и правда в каком-то смысле выводит это явление к его актуальной истине. В этой связи представляется уместным вспомнить о том, что писали М. Фуко и Дж. Агамбен о современной ситуации, характеризуя ее в терминах биополитики[5]. Последняя предполагает, что жизнь рассматривается как ключевой ресурс управления, который требует изощренных приемов менеджмента: человеческую жизнь берегут, контролируют, вкладывают в нее инвестиции, объявляют высшей ценностью, наконец. В этом контексте обязанность беречь свою и чужую жизнь становится ключевой добродетелью. Проблема, правда, в том, что между человеческим существом и его собственным живым телом выстраивается такое количество посредников в виде широкого перечня институций (медицины, права, и т.д. и т.п.), инстанций контроля и изощренных технических средств, бдительно заботящихся о нас и прежде всего о жизнеспособности и ресурсоемкости нашего организма, что индивид с трудом ощущает себя субъектом своей собственной жизни. Озабоченность способностью к самостоятельному выживанию, а точнее, страх эту способность окончательно утерять в удушливых объятиях цивилизации, равно как и катарсическое переживание возвращения этой способности в иллюзионе кинематографа или в режиме компьютерных игр – вот, пожалуй, движущая сила исключительной притягательности жанра survival. Хью Гласс оказывается востребованным героем для аудитории, состоящей, прежде всего, из жителей мегаполисов, борющихся со смутным беспокойством по поводу все растущего отчуждения в себе при помощи разве что корректировки стиля жизни. Так едва ли случайно метросексуала как эксперта в области потребления в популярной культуре сменяет ламберджек – хипстерская стилизация образа «мужественного и подлинного в своем единстве с природой» лесоруба. Хью Гласс, находясь на грани жизни и смерти, прошел по диким зимним лесам около 300 километров, не имея при себе никаких благ цивилизации (что важно!), ничего, кроме собственного тела и силы воли, но смог выжить и вернуться в общество: Аллилуйя, как говорится! Самостийное выживание ценой многих лишений само по себе из горизонта современной повседневности видится как героический акт апроприации собственной человечности. И это вызывает воодушевление у зрительской аудитории, что видно по многочисленным зрительским отзывам на фильм, размещенным, например, на КиноПоиске (www.kinopoisk.ru). Правда, есть любопытная разница между Хью Глассом-героем-легенд и Хью Глассом-кинематографическим-героем эпохи развитой биополитики.
Как настойчиво сообщают медиа-источники, сопровождающие фильм, киноэпос основан на «реальных событиях»: с реальным индивидом по имени Хью Гласс действительно произошла соответствующая история. Заметим в скобках, что эвристическая ценность данного сообщения примерно такова же, как и у тезиса «в батончике Nuts содержатся только настоящие отборные лесные орехи!». Похоже, Гласс уже при жизни стал человеком-легендой, соответственно, все, что известно о нем[6], можно рассматривать именно в этом ключе, то есть в логике мифологического нарратива. В частности, его «биография», фактический фундамент которой не поддается решительно никакой верификации, изобилует не только невероятными приключениями, но и знаковыми повторами, а это верный признак того, что легендарный Гласс – это, прежде всего, человек Судьбы. Как писал А. Секацкий[7], далеко не всякий индивид располагает Судьбой, позволяющей поведать историю жизни как красивую и внятную последовательность знаков (знаков Свыше) со своей ритмикой и тенденцией замкнуться в цикл, где совпадают точки «альфы» и «омеги». В логике фольклора, востребованного аудиторией девятнадцатого века, Хью Гласс приобрел статус легендарной личности, поскольку явным образом заставил само Провидение задуматься о своей персоне. Так, легенда повествует[8], что он самостоятельно выбирает жизнь, полную риска, хотя в этом не было вообще никакой необходимости, поскольку ему повезло родиться в весьма благополучной семье. Он попадает в плен сначала к пиратам, потом к индейцам пауни, и те и другие намереваются его убить, но почему-то проникаются к нему уважением и принимают в свои закрытые сообщества. И от тех и от других он бежит, чтобы попасть в новые перипетии. Поскольку пауни планировали его ритуальное убийство, а пресловутая медведица согласно одной из версий практически сняла с него скальп, он еще и выступает в роли некоей отсроченной сакральной жертвы, и эта роль его в конечном итоге настигает, в том смысле, что через 10 лет после знаменитого 300-километрового вояжа индейцы его все-таки убивают и скальпируют. И т.д. и т.п.: мы видим героя, повышающего рисковые ставки в игре с Божественным Промыслом, и потому чудесное возвращение Гласса из мертвых и впрямь оказывается окрашено не только в тона инициационного испытания, но также и в теологические тона.
Опять же, тело, которое не умирает, хотя уже раз двадцать как должно бы умереть, оказывается вписано в логику сакрального и в этом смысле представляет собой «Возвышенный объект»[9].
Но странным на первый взгляд образом Иньярриту оставляет подавляющее число этих вполне кинематографически живописных подробностей побоку. Дело в том, что легендарный Гласс – герой классического по своим задачам нарратива, а такие герои давно уже, что называется, вышли в тираж, и воссоздавая их, можно получить разве что персонажа вроде Индианы Джонса, что в планы амбициозного режиссера с претензиями вряд ли вписывается. А потому акценты оказываются поставлены иначе, впрочем, отражая молчаливый запрос современной аудитории. Я бы предположила, что история Хью Гласса в версии Иньярриту крутится не вокруг Судьбы и рискового повышения ставок, а вокруг того, что Агамбен назвал «голой жизнью». Голая жизнь – то, что остается от человеческого существа, когда оно оказывается вытолкнуто (как правило, насильственным образом) в маргинальное существование вне общества и закона (в фильме – в зону фронтира и дикой тайги). Голая жизнь – это жизнь, которая может быть безнаказанно отнята кем угодно, и в каком-то смысле, это жизнь ходячего трупа. Но она является точкой привилегированного беспокойства современной культуры, поскольку создает необходимый «бытийный» фон для жизни как ключевой ценности (в том числе, в экономическом смысле) биополитики[10]. Все эти моменты прочитываются в «Выжившем»: Хью Гласс в фильме начинает с того, что оказывается жертвой обстоятельств и претерпевает от индейцев, медведицы и сотоварищей всяческие жестокости, плохо совместимые с жизнью, быстро скатывается до сумеречного состояния больного животного, являя нам голую жизнь во всей ее непристойной красе, но далее, оказавшись способным к тому, чтобы обеспечить выживание своего увечного тела самостоятельно, не только суверенным образом присваивает себе жизнь заново, но и возвращает себе утраченную человечность.
Необходимо сделать уточнение: голая жизнь представляет собой не некую антропологическую константу (биологический субстрат, остающийся в нас, если счистить слои цивилизации и культуры), а полуутопленный в страхах коллективного бессознательного культурный конструкт, в котором нуждается современная система ценностей. Вот у Иньярриту этот конструкт и обретает плоть и кровь за счет натуралистичности в трактовке главного персонажа, которого режиссер с оператором фактически редуцируют к претерпевающему разнообразные мучения телу, если не сказать организму, однако, в отличие от истязаемого тела Христа в трактовке Гибсона[11], этому телу никак не удается структурироваться в качестве «возвышенного объекта». Может быть, причина в том, что конструкт «голой жизни», ситуативно привязан, прежде всего, к телу жертвы насилия или катастрофических обстоятельств, вызывающему жалость (и зачастую жалость нездоровую). И в таковом качестве голая жизнь плохо коррелирует с культурным конструктом тела жертвы сакральной, чьи традиционные эпитеты – «лучший», «цветущий», и, наконец, «возвышенный».
Не удивительно, что персонаж Леонардо ди Каприо в итоге получился удручающе пустым и абстрактным и, вообще говоря, мало интересным. Он достоверно хрипит, истекает кровью и слюной, скалится, пялится пустыми мутными глазами в небо и бесконечно мерзнет. Собственно, на этом все… ну или почти все, если не считать эстетически совершенных, но от того не менее натужных картин бредовых видений, чья задача ознакомить нас с «внутренним миром» и мотивационным абрисом героя. Галлюцинации эти старательно и оттого откровенно цитируют архетипы Юнга, картины Верещагина и фильмы Тарковского, но глубины и объема персонажу, увы, не добавляют. Наверное, и не стоило ожидать, что полумертвый траппер, подобно князю Андрею, глядящему в голубое небо Аустерлица, явит нам изысканную интроспекцию в возвышенных монологах о тщете всего сущего и загадочности человеческой (читай русской) души, - уж слишком разная конфигурация субъектности у этих персонажей, слишком разные задачи у авторов. Но плоский эмоциональный диапазон ставит под угрозу зрительское сопереживание, а стало быть, и итоговый катарсис. Потому-то и появляются душещипательные истории с убиенными на глазах у главного героя индейской женой и метисом-сыном. Если зрителю уже кажется невероятным, что герой выжил, то для убедительности должно хотя бы быть понятно, почему он был столь целеустремлен в своем выживании и из каких внутренних ресурсов черпал свое завидное сверхчеловеческое упорство.
По большому счету, выживание любой ценой традиционно не поддерживается культурой в качестве матрицы правильного поведения, что становится причиной некоторой этической растерянности в эру биополитики. Жертвовать ради сохранения жизни вообще всем, включая остатки собственной человечности, – такая стратегия неизменно трактовалась как гарантированный способ купить билет в один конец. Приведу примеры, на первый взгляд, из другой оперы, но именно они имеют прямое отношение к актуальной форме страха потерять контроль над собственной жизнью и вменяемостью. Как сообщают бывшие узники концлагерей[12], в этой системе массового превращения людей сначала в ходячие трупы, а затем просто в трупы никогда не выживали, во-первых, те, кто ставил свою человечность выше своей жизни (эти люди в принципе гибли до того, как обстоятельства вынуждали их опуститься), во-вторых, те, кто отчаялся (эта категория узников быстро переключалась в состояние ходячего мертвеца), но также и те, кто был готов решительно на все, лишь бы свою жизнь сохранить. Дело даже не в том, так ли это было на самом деле, а в том, что именно в такой системе координат катасторфический опыт мог быть высказан и осмыслен. Пережили лагеря, сохранив рассудок, насколько это было возможно, те, кто был готов на компромиссы, но нашел для себя некий ресурс сверхмотивации, которым чаще всего оказывалась не только и не столько память о семье, сколько пафос свидетельствования о преступлениях. Эту сетку жизненных стратегий мы видим и в фильме. Смерть настигает и принципиального в своих решениях и поступках майора Генри, и последовательного в своей установке жить любой ценой радикального мерзавца Фицжеральда. Иньярриту сообщает нам, что Хью Гласс выживает не потому, что слишком хочет жить, а потому что любит сына и жаждет мести. Мораль фильма проста и ясна, что, впрочем, не мешает ей быть избыточно абстрактной, натянутой и не вполне убедительной. По крайней мере, сомнительная глубина отцовских чувств в фильме становится очевидной, когда Хью Гласс устремляется к своему выживанию, просто оставив труп любимого сына валяться как есть под деревом зверью на радость. И это при наличии готовой могилы поблизости и чрезвычайной символической важности ритуала погребения для того культурного контекста. То есть майор Генри ставит под вопрос жизни двух человек своего отряда, чтобы Гласс имел шанс упокоиться по-человечески, а вот Гласс в отношении своего сына как-то позабыл об элементарном долге живых по отношению к умершим. Не говоря уже о том, что фанатичная любовь к детям как основной эмотивный движок сразу аж трех персонажей, а именно Гласса, индейского вождя и, конечно же, медведицы, наводит на ассоциации с шаблонами американских рождественских мелодрам, живописующих психологическими средствами скромное обаяние адаптированных под жизнь современного обывателя протестантских ценностей. Такая генеалогия в частности, объясняет, хоть и не оправдывает, мало уместную в историческом кино (каковым претендует быть «The Revenant»), трактовку образа молодого метиса-траппера как фрустрированного тинейджера. Интересно, что Гласс-из-легенды обошелся без всяких родственных чувств (о его детях история умалчивает, зато не умалчивает о том, что свою индейскую жену он благополучно бросил, когда отказался возвращаться к пауни). В качестве волевого источника живучести ему хватило желания даже не отомстить, а предъявить бросившим его сотоварищам свидетельство их преступления (ни Бриджерса, ни Фицжеральда он так и не убил, хотя гонялся за ними по лесам от форта к форту), а также, как уже говорилось выше, теологического в своей основе упорства в соперничестве с Провидением. Однако современному зрителю быть хозяином своей судьбы не столь интересно по причине почти инстинктивного недоверия к подобным метафизическим понятиям, куда более волнующей кажется способность быть сувереном собственного тела.
Как бы то ни было, жирный натурализм с одной стороны, избыточная абстрактность с другой так и не приходят в фильме к гармоничному единству, оставляя ощущение, что истинная движущая причина действий Гласса, а стало быть, и секрет его живучести является внешним по отношению к виртуальному миру фильма. Как пророчески шутили критики, выживший выживает главным образом для того, чтобы получить Оскар и это слишком заметно. Можно сказать и иначе. Герой Ди Каприо выживает в целях социальной психотерапии, то есть для того, чтобы дать зрителю за счет эмпатии прочувствовать сгусток голой жизни в своем собственном теле, а точнее, инкорпорировать этот конструкт в свой актуальный опыт. А далее, по мере самоспасательских манипуляций главного героя, уверовать на уровне психосоматики в то, что органическая жизнь в нас почти непобедима и мы в состоянии усилием воли возглавить процесс телесного гомеостаза и вытащить себя практически из любых сколь угодно катастрофических обстоятельств, по видимости не оставляющих нам шансов не только на жизнь, но и на человеческий статус. Как представляется, это сверхновый облик страсти Реального, более актуальный чем то, что предлагают фильмы-катастрофы и фильмы-апокалипсисы. В такой формулировке это проблема не американских трапперов 18-19 веков, это проблема жителя мегаполиса, а потому весьма существенно, что демонстрируемым в качестве голой жизни телом является холеное тело голливудского актера, терпящее несвойственный ему стресс: именно с таким телом зритель, – этот ламберджек мегаполиса – согласен и способен отождествиться.
В этой связи еще несколько слов о жертвах съемочной группы как о художественном методе, практикуемом Иньярриту. Как говорил сам режиссер в одном из интервью, он требует от актеров «исключительной честности».[13] Что именно это значит, можно понять по основному сабжу фильма «Бердмэн», который Иньярриту характеризует как отчасти автобиографический. Фильм, показывающий целый спектр творческих и личностных кризисов, типичных для театральной среды Бродвея, по сути дает своеобразный рецепт того, что надо сделать и на что пойти, чтобы умудриться произвести фурор на современной фабрике зрелищ. В «Бердмэне» труппа работает над морально устаревшей ходульной пьесой, но актеры на свой страх и риск инвестируют в постановку свои собственные тела, соревнуясь в степени трансгрессии и пренебрежения привычной условностью театрального действа. Если персонаж в пьесе пьет алкоголь, то и актер во время спектакля всерьез накачивается спиртным. Если по ходу пьесы есть постельная сцена, то и этот момент подается более буквально, чем принято. Вплоть до того, что доведенный до отчаяния страхом перед вероятным провалом спектакля режиссер, играющий одну из ролей, в тот момент, когда его персонаж должен был совершить попытку суицида, стреляется на сцене из настоящего пистолета. Таким образом, перед нами – вроде бы новый ответ на классический вопрос о том, что значит приносить жертвы на алтарь искусства. «Быть честным» по Иньярриту значит тратить свое тело так, как того требует роль, поливать сцену собственной кровью, если потребуется. Правда, пространство сцены все-таки специфично: оно, как известно, имеет рамку, искажая силовое поле действия, поэтому даже настоящая пуля, целенаправленно пущенная в висок, непременно изменит траекторию и всего лишь отстрелит кончик носа, предоставив публике эффектно кровавое, но не смертоносное зрелище. И публика в итоге готова оценить способность к жертвам как новое средство эстетической выразительности. В соответствии с этой рецептурой Иньярриту загоняет съемочную группу в зимние леса Канады и Аргентины, заставив всех страдать от гипотермии и прочих весьма дискомфортных для современного индивида неудобств, вплоть до нервного срыва и физического истощения, чтобы добиться честно пережитого и потому натуралистично и достоверно показанного опыта тела, застрявшего на грани жизни и смерти. Однако как представляется, при всем том, что «Бердмэн» весьма убедителен в предъявлении всей логики творческого кризиса и выхода к таким экстремистски натуралистическим методам, куда меньшая убедительность «Выжившего» заставляет усомниться в действенности рецепта: грубо говоря, Ди Каприо так честно мерзнет, что практически забывает или не может играть. Его действительно тошнит, когда он, будучи вегетарианцем, ест сырую печень и таким образом зритель по большей части следит за непосредственными реакциями тела актера, а не за тем, что принято понимать под актерской игрой.
Возможно, настало то время, когда Оскаров будут раздавать за стойкость в перенесении лишений на съемочной площадке, измеряя жертвами инвестиции актера в роль, но вопрос в том, в какой степени структура кинематографического образа зависит от наличия или отсутствия этих лишений. Опять же, по части так понятой честности верхом актерского мастерства в таком случае следует считать мастерство порноактеров – они действительно делают то, что делают. Можно обратиться за обоснованием скепсиса и к историческим примерам. Античная трагедия в качестве жанра деградировала в Риме, когда во имя нарочитой зрелищности и сугубого правдоподобия, если драма требовала трагической гибели персонажа, на сцене действительно убивали одетых в актерские маски и костюмы преступников. Одним словом, что касается творческого метода Иньярриту, может он и не плох по части того, чтобы предъявить зрителю симулякр «голой жизни» так, как если бы последняя была «реально» существующим объектом, и тем самым ответить на запрос аудитории, однако есть подозрение, что практикуемая таким образом «жертвенная» трансгрессия может оказаться новым шагом не в сторону развития кинематографического языка, а в сторону деструкции кинематографического образа.
[1] "Я не был дома полтора года."/ Интервью Нелли Холмс с Леонардо ДиКаприо. URL: https://www.buro247.ru/culture/cinema/ya-ne-byl-doma-poltora-goda-intervyu-s-leonardo-di.html (дата обращения 20.02.16).
[2] См. подробнее об этом тезисе и его обосновании: Корецкая М.А. Res от рассвета до заката: реализм в горизонте философии// Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. 2014 №5 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/res-ot-rassveta-do-zakata-realizm-v-gorizonte-filosofii.
[3] Этот момент подробно рассмотрен в книге Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. / Переводи вступительная статья С. Н. Зенкина. М.: «Добросвет», 2000, 390 с.
[4] Зельвенский С. «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту: survival porn. URL: https://daily.afisha.ru/cinema/255-vyzhivshij-alehandro-gonsalesa-inyarrit-survival-porn/ (дата обращения 21.02.16).
[5] Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: «Европа», 2011 a. – 256 с.
Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.: Изд-во «Европа», 2011 б. – 148 с.
Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: Изд-во «Европа», 2012. – 192 с.
Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году./ пер. с фр. А.В. Дьяков. – СПб.: Наука, 2010. – 448с.
Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году./ пер. с фр. В.Ю. быстров, Н.В. Суслова, А.В. Шестакова. – СПб.: Наука, 2011 а. – 544с.
[6] Немногие более-менее достоверные сведения и многочисленные, иногда противоречивые рассказы собраны в книге Б. Брэдли (Bradley, Bruce. Hugh Glass. — Monarch Press, 1999), на которую, в конечном счете, и ссылаются все бесконечные интернет-дискуссии вокруг и «Выжившего», и истории Хью Гласса как таковой. См., к примеру, Crofut, Bob. Hugh Glass: The Truth Behind the Revenant Legend // Wild West Magazine 6.12.2006. URL: http://www.historynet.com/hugh-glass-the-truth-behind-the-revenant-legend.htm (дата обращения 20.02.16).
[7] Секацкий А. Ревизия судьбы// Судьба. Интерпретация культурных кодов: 2003. / Под общей ред В.Ю. Михайлина. – Саратов: Научная книга, 2004. – С. 180-185.
[8] См.: Сорокин Р. Человек фронтира: поразительная история Хью Гласса // Disgusting Men. 06.01.2016 URL: http://disgustingmen.com/kino/hugh-glass-revenant-movie-real-story (дата обращения 20.02.16).
[9] Этот момент в своей знаменитой книге рассматривает С. Жижек (Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М.: Художественный журнал, 1999), показывая то, что телесность «возвышенного объекта идеологии» напрямую наследует средневековой концепции мистического тела монарха (Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии М.: Издательство института Гайдара, 2005), которое, являясь гарантом жизнеспособности государства, не умирает, даже когда умирает конкретный король.
[10] Все биополитические структуры заботы-управления строятся на том, чтобы не допустить скатывания человеческих существ к уровню или статусу голой жизни как объекта циничных насильственных манипуляций. Но для того, чтобы эта довольно навязчивая забота, часто принимающая формы экономической эксплуатации воспринималась населением как желательное благо, феномен голой жизни должен время от времени демонстрироваться как потенциально возможная для каждого индивида катастрофа.
[11] Страсти Христовы, режиссер Мэл Гибсон, США, 2004 год. В этом фильме тело Христа показано как претерпевающее столько мучений, что сама способность вынести эти сверхчеловеческие муки в качестве сознательно приносимой жертвы свидетельствует о его божественности и превращает его буквально в возвышенный объект.
[12] Эти сведения приводит Агамбен: Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. – М.: Европа, 2012. – 192 с. См. также: Франкл Виктор. Сказать жизни "Да": психолог в концлагере. Москва: Смысл, 2004. 176 с. URL: http://krotov.info/lib_sec/21_f/fra/nkl_05.htm (дата обращения 12.10.2012)
[13] Дэвид Фир. Высокий полет: Алехандро Гонсалес Иньярриту о работе над «Бердмэном». URL: http://www.rollingstone.ru/cinema/interview/20911.html (дата обращения 21.02.16).